 |
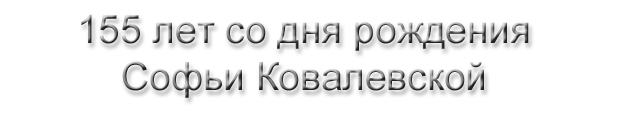 |
|
|
Софья Васильевна родилась 3 января 1850 года в Москве в семье Корвин-Круковских. Отец, Василий Васильевич, старинного дворянского рода, был артиллерийским генералом и занимал должность начальника арсенала. Мать, Елизавета Федоровна, была внучкой петербургского академика, астронома Федора Ивановича Шуберта и дочерью почетного академика Федора Федоровича Шуберта.
Первоначальным систематическим обучением математике Соня обязана Иосифу Игнатьевичу Малевичу, домашнему педагогу по образованию. Уже на первых занятиях с ним восьмилетняя девочка обнаружила редкое внимание и старательность, она быстро усваивала материал, хорошо знала и отвечала заданные уроки. Первое время арифметика не особенно заинтересовала Соню, хотя ей очень легко давался этот сложный предмет. Но ознакомившись с элементарной геометрией и алгеброй, почувствовала сильный интерес к математике, что стала пренебрегать другими предметами. Пылкий и чувственный нрав Софы не укладывался в привычные рамки поведения светской барышни. И в образовании она тоже стремилась получить все больше и больше. Два с половиной года она занималась арифметикой, затем прошла курс алгебры по популярному в то время двухтомнику Бурдона, уже в середине курса ее учителю пришлось начать преподавать ей основы геометрии, а на шестом году обучения приступила к изучению стереометрии – науки о геометрических фигурах в пространстве. Сама Ковалевская считала, что своим настоящим интересом к математике во многом обязана своему дяде Петру Васильевичу. Беседы с ним пробудили в ней, прежде всего фантазию, внушили благоговение к математике как к науке таинственной и чудесной. В 14 лет Соня самостоятельно начинает изучать физику. В элементарном учебнике физики она встречает незнакомые тригонометрические формулы и пытается их объяснить сама. По странному совпадению, она пошла тем же путем, который употреблялся исторически. Профессор Тыртов, узнав, что девочка без чьей-то помощи сумела воссоздать тригонометрические формулы, назвал ее вторым Паскалем. Стало ясно, что у Софьи безусловные способности к высшей математике и ей следует всерьез изучать эту науку. Она начинает заниматься в Петербурге у одного из образованнейших и видных педагогов того времени Страннолюбского. Консервативно настроенные научные круги России категорически возражали против образования женщин, и поэтому Софья с мужем Владимиром Онуфриевичем Ковалевским уезжают за границу. Там она посещает лекции знаменитого ученого Бунзена, Гельмгольца, индивидуально занимается у выдающего математика, профессора Берлинского университета Карла Вейерштрасса, готовит работы для получения диплома доктора математики. За свои научные труды (уточнение к теореме Коши, впоследствии вошедшей в основной курс математического анализа под названием теоремы Коши-Ковалевской, и вопрос о кольцах Сатурна) Ковалевская с высшей похвалой получила степень доктора. Но Софья Васильевна никогда не останавливалась на достигнутом, она продолжает упорный научный труд, читает лекции в Лондоне, Париже, Цюрихе, преподает в Стокгольмском университете. За исследования вращения твердых тел от Парижской академии наук ей была присуждена почетная премия Бордена, затем премия Шведской академии. Облик этой замечательной женщины многогранен. Она была не только знаменитым математиком, но и участником общественного движения своего времени. Сверх того, литератором, писательницей ряда литературных произведений. То же перо, которое в ее руке запечатлело на бумаге сложные математические идеи, писало стихи и повести, романы и драмы, театральные рецензии и литературно-критические очерки. Софья Ковалевская писала стихи, но из них дошли до нас немногие. Все эти работы не были случайным развлечением, минутной забавой. Нет, они тесно вплетены в ее жизнь, отражают раздумье над идейными вопросами. В годы ее жизни Россия дважды стояла накануне революционного взрыва; первая из них сложилась в 1859-1861гг., вторая – в 1879-1880 гг. . Одним из замечательных произведений Софьи Ковалевской является повесть «Нигилистка». Так же как и роман Чернышевского «Что делать?», это одно из первых художественных произведений об истории русского революционного движения. Ковалевская проявила себя и как литературный критик и публицист. Ею напечатан ряд театральных обзоров в «Новом времени», ее перу принадлежит очерк, посвященный писательнице Джордж Элиот, статьи, посвященные творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. На протяжении всей своей жизни Софья Ковалевская отстаивала свое святое право – быть ученым, профессором, исследователем наравне с мужчинами. И ей это удалось. Если перечислить все достижения Ковалевской, все ее успехи, дела и награды, вспомнить почести, оказанные ей научным миром, трудно поверить, что эта женщина прожила на Земле всего сорок один год. Она умерла 10 февраля 1891 года. Говорят, что последние слова Софьи Ковалевской были: «Слишком много счастья».
Отрывок из стенографической записи рассказа С. В. Ковалевской в мае 1890 года в редакции журнала «Русская старина».
"Любовь к математике проявилась у меня впервые, насколько я могу это теперь припомнить, следующим образом. У меня был дядя, брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский, живший в 20 верстах от нашего имения, в своем селе Рыжаково. …Любимым его занятием и единственным наслаждением, которое ему осталось от жизни, было чтение. В этом отношении его привлекала наша деревенская библиотека. Он читал без разбору и с одинаковым удовольствием все, что попадалось под руку, и романы, и исторические очерки, и научно-популярные статьи, и ученые трактаты. От природы чрезвычайно доброго и мягкого характера, он до безумия любил детей. …Дядя рассказывал мне сказки, учил меня играть в шахматы; потом, неожиданно увлекаясь своими мыслями, посвящал меня в тайны разных экономических и социальных проектов, которыми он мечтал облагодетельствовать человечество. Но главным образом он любил передавать то, что за свою долгую жизнь ему удалось изучить и перечитать. И вот, в часы этих бесед, между прочим, мне впервые пришлось услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах — прямых линиях, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, и о многих других, совершенно не понятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным. Ко всему этому суждено было присоединиться следующей, чисто внешней, случайности, которая еще усилила то впечатление, которое производили на меня эти математические выражения. Перед приездом нашим в деревню из Калуги весь дом отделывался заново. При этом были выписаны из Петербурга обои; однако не рассчитали вполне точно необходимое количество, так что на одну комнату обоев не хватило. Сперва хотели выписать для этого еще обоев из Петербурга, но, как часто в подобных случаях водится, по деревенской халатности и присущей вообще русским людям лени все откладывали в долгий ящик. А время, между тем, шло вперед, и пока собирались, судили да рядили, отделка всего дома была уже готова. Наконец, порешили, что из-за одного куска обоев не стоит хлопотать и посылать нарочного за 500 верст в столицу. Благо все комнаты в исправности, а детская пусть себе останется без обоев. Можно ее просто обклеить бумагою, благо на чердаке в палибинском доме имеется масса накопившейся за много лет газетной бумаги, лежащей там без всякого употребления. Но по счастливой случайности вышло так, что в одной куче со старой газетной бумагой и другим ненужным хламом на чердаке оказались литографированные записи лекций по дифференциальному и интегральному исчислению академика Остроградского, которые некогда слушал мой отец, будучи еще совсем молоденьким офицером. Вот эти-то листы и пошли на обклейку моей детской. В это время мне было лет 11. Разглядывая как-то стены детской, я заметила, что там изображены некоторые вещи, про которые мне приходилось уже слышать от дяди. Будучи вообще наэлектризована его рассказами, я с особенным вниманием стала всматриваться в стены. Меня забавляло разглядывать эти пожелтевшие от времени листы, все испещренные какими-то иероглифами, смысл которых совершенно ускользал от меня, но которые, я это чувствовала, должны были означать что-нибудь очень умное и интересное,— я, бывало, по целым часам стояла перед стеною и все перечитывала там написанное. Должна сознаться, что в то время я ровно ничего из этого не понимала, но меня как будто что-то тянуло к этому занятию. Вследствие долгого рассматривания я многие места выучила наизусть, и некоторые формулы, просто своим внешним видом, врезались в мою память и оставили в ней по себе глубокий след, В особенности памятно мне, что на самое видное место стены попал лист, в котором объяснялись понятия о бесконечно малых величинах и о пределе. Насколько глубокое впечатление произвели на меня эти понятия, видно из того, что когда через несколько лет я в Петербурге брала уроки у А. Н. Страннолюбского, то он, объясняя мне эти самые понятия, удивился, как я скоро их себе усвоила, и сказал: «Вы так поняли, как будто знали это наперед». И действительно, с формальной стороны, многое из этого было мне уже давно знакомо".
Подготовлено Е.Агамалян |
||
 В
жилах семьи Круковских текла «гремучая смесь», состоявшая из кровей
рода Шубертов и польских – рода Круковских, с примесью цыганщины. Позже
Софья Ковалевская остроумно говорила, что страсть к науке она получила
от предка, венгерского короля Матвея Корвина, любовь к математике, музыке
и поэзии от деда Шуберта, свободный и вольный нрав – от Польши, влечение
к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым обычаям – от прабабки
цыганки, а все остальное – от России.
В
жилах семьи Круковских текла «гремучая смесь», состоявшая из кровей
рода Шубертов и польских – рода Круковских, с примесью цыганщины. Позже
Софья Ковалевская остроумно говорила, что страсть к науке она получила
от предка, венгерского короля Матвея Корвина, любовь к математике, музыке
и поэзии от деда Шуберта, свободный и вольный нрав – от Польши, влечение
к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым обычаям – от прабабки
цыганки, а все остальное – от России.